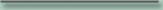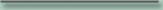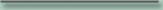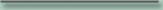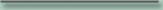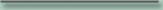|
|
РУСАЧОК
Вспоминается мне далекая глухая деревушка Яньшино'. Бывало, поздней осенью окажешься один в непроглядной темноте среди большого опустевшего поля. Порывистый ветер загудит в стволах ружья далеким колокольным звоном. Едва разбирая . узкую тропинку, зашагаешь в деревню. Кончится поле, долго и тихо спускаешься в глубокий овраг, поросший высокой крапивой. Вдруг на дне оврага снова завоет ветер: «о-о-о-у». Почудится, будто волки воют в стороне, еще больше жуть одолеет. Скорее бы Яньшино. Мелькнет первый огонек — отлегнет на душе. Сильный ветер долго и монотонно раскачивает фонарь, а потом погасит его. Над головой холодное темное небо, а впереди огоньками глядят друг на друга деревенские избы. Дом старого охотника Ивана Ивановича Виноградова на краю деревни. Тихо постучишь в оконце.
— Кто там? — послышится тихий голос друга.
Откроешь дверь, из сеней повеет душистым сеном. Иван Иванович ласково встречает меня. Ему уже за семьдесят, но он держится бодро, широкоплечий, невысокий поседевший. На полном добром лице радостная улыбка.
— Заждался, наконец-то! Не надоело в духоте сидеть да бумагу строчить? — весело говорит он, щуря маленькие светло-серые глаза.
Раздеваюсь и греюсь у широкой печи. Слышно, как постреливают дрова, спокойное пламя освещает избу, пахнет березовыми дровами, сушеными грибами и старинной мебелью. На полу, возле печи начищенный самовар поет тихую песню. В углу комнаты стоит стол с широкими лавками, у стены кровать, В доме просторно, чисто и во всем доброта.
Я радуюсь покою, тишине, дорогому другу, ощущаю запах свежего молока и душистого хлеба. Незаметно за веселым разговором проходит радостный вечер. За полночь засыпаем под мерный стук настенных часов.
В Яньшине просыпаешься рано, едва тусклый свет покажется в окно. На дворе морозно, а в лесу колко. Колея на дороге как каменная, вода в низинах затягивается льдом, С гончими в такую пору идти нельзя: собаки собьют ноги. С книгой в руке заберешься на русскую печь и ждешь погоду. Снежку бы подбросило! Иван Иванович растапливает печь. Дрова не хотят разгораться. Он ворчит:
— Нету тяги, ветер переменился. Поясница ноет, к непогоде. Самый раз к обеду снега надует.
Начинает падать первый снег. Помню, выйдешь на деревню, а первые пушинки хрупки, нежны, ложатся легко и бесшумно. К вечеру снег идет хлопьями. Засыпаешь с радостной надеждой — завтра с гончими по первой пороше.
Едва показываются слабые полоски света, бежишь на улицу. Зазимок лег! Земля плотно укрыта . белым ковром. Вдали над горизонтом темная полоска дальнего леса, а над ним, на мутном небе, пробивается тусклый свет. Из деревни уже кто-то вышел, оставив печатный след. Подходит Иван Ива¬нович и говорит:
— Мертвая пороша. По такой тропе в лесу только время зря убивать: ни одного следочка не найдем. Беляк не встанет на жировку, его сейчас присыпало снегом, тепло ему. Ежели идти, только по русаку. Где-нибудь коротенькие жировочки да сыщем.
Я рад, что впервые в жизни пойду по русаку.
Собаки прыгают, весело скулят. 'Виноградов ловко берет гончих на смычок, и напевает: «...охотники гнались, за ними гончих стая».
На нем старая меховая темная шапка и теплая черная куртка, подпоясанная широким ремнем, на ногах теплые сапоги. Длинный старый рог золотисто сверкает за плечом, а за спиной старенький «Эробуст» двенадцатого калибра, доставшийся ему от деда. Виноградов напоминает мне выжлятника из старых псовых охот. Только нет под ним резвой лошади.
Хороши собаки — рослые, крепкие, с большим чепраком, густо одетые псовиной.
— Про лису так нельзя. Лисица к зиме говорят, выкунела.
Выходим к реке. Ее замело снегом. Голубой лентой сияют лесные дали. Справа видны темные точки — это небольшие деревни Горки и Гальцово.
Иван Иванович на сворке ведет собак, а я прошу пустить их: мне очень не терпится посмотреть, как гончие на махах поскачут по белому полю. Виноградов сердится:
— Нельзя. Ты человек городской, и тол¬ку нашего охотницкого в тебе еще нету. Пусти я собак... Ну и што? Побудят лисицу, и прощай, охота. Ищи цельный день гончих. До жировки не пущу — и не проси.
Нравятся мне глаза, темно-карие, большие и необычайно грустные. На сухой голове с длинным щипцом, словно пришитые, как осенние листочки, лежат уши, как треугольнички. Ноги мускулистые, с крепкими сле-истыми лапами, гоны (хвосты) низко опущены. Шугай выше Водишки, ему шестое поле, а выжловке — третье. Гончие тянут на сворке. Мы выходим в поле, как на праздник.
— Иван Иванович, а ты в узерку охотился? — докучаю я друга.
— В узерку надо по чернотропу, когда заяц перелиняет. К зиме русак сделается серебристо-серым, лишь на грудке и животе желтизна остается, а на спине русая полоска — потому и зовут его русаком. Зимой русак выцветает, и тогда говорят про него охотники — «цвелый русачок-то», — рассказывает Виноградов.
— А лиса зимой тоже цвелая?
— Не найдем жировку. Видишь, как все замело... — горячу я его.
— Не торопи, — говорит он и, нагнувши голову, рассматривает след на самом краю леска.
— Иди глянь. Следы русачиные, жировочные. А почему жировочные? Смотри, видишь, печатки лап узенькие, уютные и расстояние меж ними небольшое. А ходовой заячий след — расстояние меж печатками больше. А как сейчас собаки побудят русака, вот тебе и гонный след. Ты метр-то взял, будешь мерить? — шутит охотник.
Пока мы рассматриваем следы, Шугай, учуяв их, так рвется с поводка, что едва не валит хозяина в снег. Наконец Виноградов размыкает смычок. Выжлец тычется черной мочкой в след и утекает в лес. За ним скрывается Водишка. Гончие молча ищут зайца — это важное достоинство собак.
— Иван Иванович, собачки-то верные,
без добора, — улыбаясь, говорю я другу.
— Ишь ты, запомнил. А спроси тебя, что такое малик, и не скажешь?
— Маликом зовется русачий след.
Русак выскакивает где-то впереди, Шугай вопит сплошным воплем, Не проходит и секунды, как на его голос подваливает Водишка. Гончие заваривают такой яркий гон, что мы забываем про ружья и только слушаем собак. Окрестности наполняются гамом и стоном. Шугай отдает голос часто, мелодично и басовито, а ему вторит нежный, певучий плач Водишки.
— На дорогу надо бежать, — говорит Виноградов.
Мы появляемся на дороге, запорошенной снегом, когда русак катит по широкому бе¬лому полю к оврагу. Мне хорошо видно в бинокль, как заяц потихоньку отрастает от собак. Вскоре и русак и собаки скрываются в овраге. Проходит минута, другая, и все смолкает. Томительно ждем звуков гона. Иван Иванович шепчет мне:
— Скололись, потеряли след.
Я иду по дороге и слышу взлай гончих. Гонят. Замираю на месте. Вижу, как от деревни отделяется маленький темный комочек и вновь движется вниз к оврагу. Шугай и Водишка появляются минуты через две, щедро отдавая голоса по следу русака. Виноградов велит мне идти с ним и встать, где только что прошел заяц. Гон снова пропадает. У меня мерзнут ноги в резиновых сапогах, терплю, не то попадет от друга. Виноградов стоит недалеко от меня. Он весь превратился в слух.
В овраге гончие снова заголосили. Иван Иванович делает мне знак рукой — стоять на месте, а мне неймется сбегать в овраг и посмотреть, что там делается. Через несколько минут русак тяжело прыгает в гору, а собаки у него на хвосте ревут от злобы. Первым гонит 'Шугай, он паратый. И вдруг я вижу такое, что поражает мое воображение. Заяц не отрастает от собак, а наоборот, выжлец постепенно приближается к русачку. С каждой секундой расстояние между ними становится все меньше и меньше. Шугай уже не лает отдельными взбрехами, а без передышки вопит. Водишка чуть отстала, но и она рыдает без умолку. Не-смолкаемый стон и вопль стоит в овраге.
Русачок, чувствуя гибель, жалобно кричит и прыгает по дороге прямо в ноги Виноградову. Он медлит и не стреляет. Жалобный крик зайчонка производит такое впечатление, будто малое дитя лежит в ледяном снегу и плачет, взывая о помощи. Дальше все происходит в одно мгновение. Виноградов падает и перед самым носом у Шугая выхватывает русачка. Я бегу на помощь. Собаки прыгают, стараясь ухватить косого— Отрыщь! — кричит Виноградов на гончих.
.
Я беру Шугая на сворку. Ни крик зайчонка, ни ярый гон собак не производят на меня такого потрясающего впечатления, как сам Виноградов. Он стоит словно онемелый, без шапки, редкие седые волосы всклокочены, грудь нараспашку, а глаза мутные, дикие, бровь и правая щека его все время дергаются от Охотничьей страсти. Только теперь я понимаю, что такое истинный гончатник. Дрожащими руками Виноградов старается запихнуть зайца в рюкзак. Русачок еще серенький, не выцвел, лишь гачи посеребрились. Стеклянные глаза смотрят боязливо и вместе с тем очень просто. Он дергает задними ногами, пытаясь выпрыгнуть. Наконец зайца водворяем в рюкзак. Собаки жадно скулят.
Успокоившись, Иван Иванович .говорит:
— Ты уж не обессудь... Нешто не жаль косого? Прибылой русачок-то, не вырос... Не гораздо нам затравить такого детеныша. Шугай, этот дьявола загонит. — Виноградов ласково гладит собаку. — Едва приспел я, а русачок-то выбился из сил. Не приспей я, конец бы ему. А как жалобно кричал он! Век свой доживаю, а такое на охоте впервой случается, чтобы зверь защиты искал у человека.
Я смотрю на друга и радуюсь его доброте.
— Ну так что будем делать? — спрашиваю я Виноградова.
— Как это что? Отойдем за овраг и пустим на волю косого — пусть подрастет малость.
Спускаемся в овраг. Здесь снег испещрен следами. Выходим на Вишняковскую доро¬гу. Иван Иванович берет у меня смычок, а зайца поручает выпустить мне. Я отхожу подальше от собак и открываю рюкзак. Русачок выскакивает и, к моему удивлению, садится. От хлопка в ладоши он подскакивает и удирает, смешно закидывая задние ноги. Мелькают цветок и штанишки. Заяц скрывается, а я все смотрю. Мерзнут на морозе руки, холод пробирается по телу. Меркнет зимний день. Малиново-красное солнце скрывается за оврагом. Снег сияет нежно-сиреневым светом. Высокое холодное небо наливается синью. В морозном воздухе глухо слышен одинокий выстрел.
— Постреливают, — озабоченно говорит Виноградов.
Мы идем в Яньшино. Навстречу нам на санях едет из Вишнякова плотник Николай Фролов. Он останавливается и хрипловатым голосом говорит:
— Эх, вы, горе-охотники, чиво собак-то не пущаете? Заяц-то, эва, на дорогу скок и катит. Ну, я его стук, и готово.
— Не может быть, — удивленно говорит Виноградов.
Фролов приподнимает охапку сена. В санях лежит убитый русачок.
Ошеломленный Иван Иванович растерянно смотрит, потом нежно гладит маленькую, еще теплую тушку. Русачок лежит как живой, серенький — не успел одеться и посеребриться к зиме. Открытые бессмысленно-блестящие, как стекло, глаза смотрят просто. На голове шерсть слиплась, а на грудке чистенькая, пушистая. С узкой мордочки и длинных усов стекает еще не успевшая застыть алая кровь. Длинные уши с черными кончиками свалились на сторону. Покойно лежат маленькие лапки. Только десять минут назад сидел он передо мной, а потом удирал по дороге, смешно закидывая длинные задние ноги.
- Лицо Виноградова перекосилось от гнева, и он, дрожа, наступает на Фролова.
— Зависть одолела! Зачем убил? На што он тебе? Заяц-то с рукавичку! Дармоед! — кричит он.
Фролов, не ожидавший такого разговора, вдруг растерянно бормочет:
— Кто ж их знает, большой аль махонький. Всё одно зверь. Я по закону.
— Нешто на таких, как ты, усмотришь все в законе? А совесть где твоя охотничья? А? Я тебя спрашиваю! — грозно говорит Виноградов.
Ошеломленный Фролов быстро трогает лошадь и, боязливо оглядываясь, укатывает.
Расстроенные, мы молча бредем в Янь¬шино. Виноградова я понимаю. Здесь дорог ему каждый кустик, каждая березка напоминает ему молодость, навсегда ушедшие счастливые охотничьи зори. Каждый день видит он над Яньшином чистое небо, закат над лесом — всё это его человеческая радость. Он любит природу и бережет ее, а ружье он носит так, для случая. Только с годами понимаешь и чувствуешь, как дорого все живое, все, что доставляет радость.
Маленьким светлячком мелькнет вдали огонек Яньшина, радостью засветится дорога к теплому дому. Как самое дорогое, вспоминаешь короткий зимний день, а в ушах звенят яркие голоса гончих и переливы охотничьего рога.
Иван Иванович устал, но никогда не скажет об этом.
Войдешь в дом. Собаки скулят и просятся в комнату.
— Пусти их, пусть погреются, — ласково скажет Виноградов.
Шугай заберется под лавку, а Водишка ляжет у порога. Натопишь печку. Лицо горит с мороза, а глаза сами закрываются. Сквозь сладкую дрему слышишь, как во сне взлаивают собаки. Виноградов лежит напротив меня и тихо шепчет:
— ...беляк ночью встанет на жировку, набегают косые, пойдем завтра в лес за беляками».
Потом все пропадает в глубоком, сладком сне...
Много охотничьих зорь погасло на моих глазах, много слушал я гончих, но желанней и памятней охоты с ними не помню, как ту, что первый раз в Яньшине, и голосов я не слышал красивее и сильнее, чем у Шугая.
Когда на опустевшие поля снова ложится первый снег, память зовет меня в Яньшино. Я еду один, иду той же тропинкой, поднимаюсь в гору и вижу на краю деревни маленький домик. Три низких окошка тоскливо глядят на меня, не клубится дымок, и вольера пуста. На тихом крылечке, где мы часто смеялись и радовались встрече, пустынно и одиноко. На двери замок.
Я иду по той же дороге к оврагу. Низко светит малиновое солнце. По склону оврага нежно разлита дивная красота голубого света. Далеко у деревни лает собака, и кажется мне, будто снова гончие побудили русака.
Падает солнце. За оврагом в сумерках тоскливо прячется короткий зимний день. Где-то глухо раздается выстрел. Ледяная вечерняя стынь давит, коробит все тело, и от этого еще тяжелее. Медленным последним взором смотрю на глубокий овраг, тихо, как тогда в сумерках, бреду к Яньшину. Сквозь синие сумерки будто снова слышу шепот друга: «Нешто не жаль косого, прибылой русачок-то...»
Комментарии
|
|