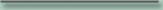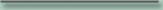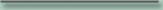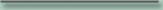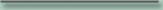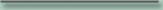|
|
Отрывки воспоминаний. II часть.
То же можно сказать и о березниковских и крамаренковских гончих, у которых удалось сохранить голоса и чутье.
Бредни о том, что русская гончая утратила голос и злобность, не выдерживают никакой критики. Вполне естественно, что гончая делалась таковой в тех охотах, где за дело собаководства брались несведущие люди, или смешивали породу с польскими собаками или английскими безчутыми тупицами, или применяли гончих не по назначению.
Большое значение имеют воспитание, нагонка собаки и поведение самого охотника на охоте. Другой охотник трубит и трубит, вероятно для личного удовольствия, собаке же от этого пользы никакой, а вот зверю—польза: сторожкий зверь поднялся и дал тягу, а охотнику остается довольствоваться лишь зайчишками. Разве только глупый лисенок при таких условиях сложит свою голову. Вот почему, по-моему, за последнее время я редко встречал у ружейников зверогонов и больше из першенцев.
Першенцами я всегда дорожил, и от Песни этих кровей имел много радовавших меня собак. Такие из них, как Бушуй и Ругай, обладавшие большими голосами, были широко известны в Орле и Ельце.
Крови своих собак я освежал, обращаясь в основном к лучшим производителям псовых охот; остаткам можаровцев, араповцев, панчулидзевцев.
Собак я получил от своего отца. Это были гончие, идущие из охот Соковнина и Левшина. Чистыми представителями этих линий были Трубач и Кума I; собак одно время я вел «самих в себе».
В 1897 году Насмешку от собак Н. П. Кишенского и Н. В. Можарова я повязал с Заграем I. В породу от этого помета вошла Журьба XVI (серая).
В 1899 году Журьбу вязал со Звонилой охоты Арапова (имение Лошмы, Наровского уезда, Пензенской губ.). Звонила в миниатюре— волк, волчьего же окраса (бусый), с ушами треугольником, но не малыми; с волчьими очесами на шее и с гоном вокороть и волчьего положения.
Вошедшую в породу от этой вязки Тревогу II (серую) в 1902 году я повязал с Сигналом А. М. Сухотина (Лихвинский уезд Калужской губ.), идущего кругом от собак Н. В. Можарова. От этой вязки вошли в породу Заграй IV (бледно-багряный), присяжный зверогон, давший мне прекрасных собак, в том числе не менее знаменитого Добыча I (бусого) *.
В 1903 году ту же Тревогу вязал с Набатом В. С. Мамонтова-Свербеева (имение Головинка, Новосильского уезда, Тульской губ.). Набат шел кругом от собак охоты Панчулидзева (Пензенская губ.), серо-багряный, с белыми отметинами на загривине, груди, конце гона и конечностей. Мастер стаи. В породу от этой вязки вошла Зажига I, серо-багряная, высокопородная, элегантная выжловка; она одно время водила мою небольшую стайку, затем была у А. О. Эмке (см. статью о ней Эмке в журнале «Семья охотников» за 1910 год), затем была у А. Я. Прокопенко в Смоленской губернии, где и угасла не расщенившись. А. О. Эмке комбинировал ее в 1910 году с Говоруном А. И. Ромейко (от собак Н. П. Кишенского).
У меня Зажига I вязалась с Заграем V и дала мне замечательного зверогона Добыча II (бусого) и ряд других собак.
От вязки с Говоруном А. И. Ромейко у меня в породу вошла Зажига II (серая), давшая от вязки с Добычем Говорушку (серую) М. Э. Будковского.
Лауреатами Украинской республиканской выставки в 1927 году был смычок М. Э. Будковского (золотая медаль) — дочь Говорушки Тревога (серая), полученная от вязки с выжлецом неизвестного происхождения—Будилой Завойского, и Рыдало— сын Тревоги.
Честь выведения русской гончей бесспорно принадлежит не¬большим ружейным охотам, и нужно отдать должную справедливость русским ружейникам в том, что они вывели действительно замечательную гончую, которая по своим качествам является незаменимой собакой для нашего брата-охотника.
Черно-пегий, рослый, широкий англо-русский выжлец Карай— породного вида, с красивым, баритонального тембра голосом — полазом, как и надлежит гончему англичанину, не отличался, но гнал вязко и мастеровито. Выжловка Певка — польско-русская, легкого хорошего экстерьера, неугомонного нрава, верткая, живая до чрезвычайности — полазиста, нестбмчива, добычлива, но мастерства ни на грош. Обе же гончие вместе составляли, как бы это выразиться попонятней...— я назвал этот смычок «мошенническим»: в одиночку с каждым радости мало, а скуки много. Ходит себе Карай по лесу с ленцой, трусочком, станет, послушает, сядет, почешется, чуть набил ногу — так и совсем не идет, плетется сзади прихрамывая. Певка в полазе—молния, несется вовсю! Сорвала пятку — нипочем, коготь — тоже, а все идет. Подъем зайчишки — моментальный. Заголосит— «шкуру дерут с живой»... и сюда верть, и туда верть: заяц в одну сторону, Певка в другую. Редко бедняге доводилось додержать круг-два, а в смычке «отдай все и то мало!»
Действительно, не замерла еще в воздухе первая нота страстного голоса Певки, как к ней широким махом пронесся Карай. Залилась одной сплошной нотой Певка, в которой слышится и плач, и страсть, и вопль; вторит ей густым, красивым, мерным баритоном Карай.
Ведут как по веревочке... Иногда смолкнет Карай, а Певка ни на секунду. Со стороны кажется, что ведет Певка, а Карай, немного отставши, справляет сзади.
В восторг приходили от работы этого смычка многие! Покупали, и не за малые деньги. Особенно привязался Л. Б. Б-ский: «Продай да продай! Что мне твои зверогоны, которые по зайцу отпускают голос через час по столовой ложке?» Как ни объяснял я ему, что смычок «мошеннический»,— ничего знать не хочет.
Раз приехал он ко мне уже по глубокому снегу; сейчас же — за смычки и хочет скорее тащить своих любимцев... «Нет,— подумал я,— покажу их тебе поодиночке— живо охладишься». Отобрал я у него смычок и взял одного Карая. Пошли. Мороз небольшой. Тихо. Бесчисленные заячьи тропы-малики пестрили снег во всех направлениях. Шишлил носом Карай, а гона нет. Помучил я малость Л. Б. «Эх, Певки, нет!»—сказал он. «То-то,— обмолвился я,— помянул Певку, начинаешь смекать, в чем дело». Пришлось самому работать за Певку: стропил сам русака, навалил на след Карая. Верно и ровно вел выжлец. На втором кругу ловко срезал русака Л. Б. «Сейчас подымем другого!» — кричит.
Вяло ходил Карай, посматривал по сторонам, чуть не скажет:
«Да где же Певка, что же она не подымает?..»
«Будь другом,— кричит мне Л. Б.,—стропи еще одного!»— «Мальчик я тебе дался?— отвечаю.— Лезь сам за Певку». Уразумел Л. Б., и все же пришлось ему самому лезть за Певку. Проваливается, слышу, ругает уже Карая, но стропил еще русака, насадил на след Карая. Слышал ли русак наши крики, гон ли Карая, но вырвался он в мелоча и пошел прямиком в отдаленный лес.
Как и тогда, русака хорошо, ровно вел Карай. Вот он перемахнул речонку, камыши и поде, голос его слышался в лесу более ярко и отчетливо. Вдруг гон смолк сразу. Пока мы дотащились до леса, пока разобрались, оказалось, что заяц влетел в многочисленные волчьи лёжки. Один из волков даже куст развернул и устроил себе нечто похожее на пружинный матрац. Проскочил ли заяц через волчьи логова — неизвестно, но Карай не проскочил: кровь и клочья шерсти, кусок внутренностей с овсянкой — и больше ничего.
Но какова же дерзость волков: в версте или двух от нас они завели свой волчий концерт, как бы прося пожертвовать им еще одну собачонку.
Певку получил Л. Б. в подарок безвозмездно и убедился, что смычок Карай и Певка был-таки «мошенническим».
Будило I — огромная, до семнадцати вершков, собака, мощная, самая сильная из всех собак когда-либо бывших у меня или у других известных мне охотников: длинная, лобастая голова, могучие шея и плечи, грудь ребристая, с верхом колодка — всё соответствовало этому гиганту. Поленообразный, прямой, короткий гон волчьего положения. Ноги чуть не с человеческую руку толщиной. Лапы следистей волчьих. Голос же — и вопли, и рыдания, и грозный рев; всё было в этих необычайных звуках, и трудно верилось, что эти звуки выходят из одной собачьей груди.
Знал я Будилу и в полном расцвете его могучей красоты, знал его и стариком по двенадцатой осени, с вытекшим глазом, козенцами и прочими «прелестями», полученными им от долгой беззаветной работы. Одного уха у него не хватало больше половины, другое висело какими-то жалкими лоскутками. Морда также была вся исполосована отметинами былых боев. Единственный уцелевший глаз смотрел умно и добро. Но мне выжлец и в таком состоянии был люб, и когда я смотрел на его морду, тронутую сединой, изуродованную голову с вытекшим левым глазом, на остатки ушей, мне казалось, что я вижу лицо старого бойца с почетными боевыми знаками.
Целый рой воспоминаний теснится в моей голове об этом друге, спутнике моих охот.
Странную привязанность питал Будило не к человеку, а к своей подруге-однокорытнице, за долгие годы совместной их собачьей жизни на псарке и в поле — к Кенарке.
Будило был очень дик, что зависело отчасти от воспитания, содержания, но, возможно, дикость передалась ему и по наследству. Без Кенарки его нельзя было взять на смычок. Когда же брали на смычок Кенарку, Будило сам совал свою огромную башку в смычок. То же и в поле: без Кенарки взять его — напрасная попытка, да и опасная. Кенарка на смычке — Будило идет стороной, недалеко. Перевидел его и по окрику «Стоять!» — Будило, сгорбившись, своеобразно поворачивает голову назад — смело бери этого дикаря.
Покончила дни свои от волчьих зубов славная подруга Будилы Кенарка. Загрустил, что ли, по ней Будило (право, другого выражения я не подберу), старость ли тому была причиной, но сильно сдал телом могучий выжлец, стал угрюм, а по ночам стал жутко выть. Да еще и другая причина присоединилась к этому: нашли на псарке задушенного выжлеца Крючка — обвинили в «преступлении» старика... и посадили на цепь.
Еще хуже повел себя Будило со своими дикими ночными «концертами» — вытьем,— и отдал мне его совсем Г-штейн. Просил беречь старика как зеницу ока.
Откормил я Будилу котлетами и другими лакомствами, кусками от стола, немало перетаскал всякой всячины у своей старушки матери, поместил его с собой вместе в бане. Мало-помалу заслужил доверие и расположение к себе. Стал наганивать с Будилой и тоже осенистым Набатом молодежь. Учил Будило работе и своих потомков: Трубача, Куму I, Найду.
Много незабвенных минут дал мне Будило. И стрелял-то я со страха от неожиданного вопля — рева его, вообразив, что его дерут волки. Случалось, и «слезу пущал» от его могучих рулад, всего было...
Раз, 13 января (хорошо помню этот день), взял я смычок своих стариков — Будилу и Набата. Набат был рослым выжлецом с отличным, фигурным, голосом, но экстерьером — никудышный: задние ноги со здоровой корбвиной, и он ими как-то заплетал и не мог стоять ровно на месте. Грудь и весь перед — хоть куда! А зад узкий, уродливый. Голова с одной стороны хороша, обыкновенного гончего окраса, с отличным, энергичным по выражению, глазом, другая же половина головы сплошь белая, с белыми ресницами и «прелым», как у мертвого судака, глазом. Получалось несколько комическое впечатление: с правой стороны собака как собака, с левой — черт знает что. Гонец же был добросовестный, хотя с таким экстерьером далеко не уедешь — стомчив.
Спустился я на луга. Дальше шли сплошные леса, камыши, которые покрывали почти высохшие после уничтожения мельницы заводи и старое русло реки Вытибети. Посмотрел: узкой ленточкой стелился нарыск лисы... (Крепко держались в таких заразистых островах камыша лисы; ходили они маленькими кругами, и легко было их брать.) Спустил со смычка Набата. Весело пошел он, по обыкновению странно переплетая своим дурацким задом. Вдруг он что-то схватил, сделал движение, как бы разгрызая, и быстро выбросил из пасти... Заорав «Стоять!», я скорей помчался к нему, взял на смычок... «Не набросал ли пилюль на лисиц Щетинка» (был такой Немврод в тамошних местах),— кольнула мысль, а сам не мешкая у лепетал подальше лугами к лесу, где было много беляков в гущарах ельника и осинника. Версту прошел, ну, думаю, благополучно. Спустил Набата по малику беляка, и он пошел так же весело, как и по лисьему нарыску. Но вот его как будто что-то потащило в сторону от малика... странно он как-то заковылял, почти описал круг и.упал. Несколько судорожных движений конечностями, горящие, яркие глаза довершили картину отравления стрихнином.
Скорее с Будилой* домой! Пропади пропадом такая охота. Практичней, конечно, не охотиться в таких местах, сидеть дома, но, к сожалению, большинство из нас этого не делают. А то и дома, как это случилось в прошлом году, пришли мои Кума II и Заграй1Х откуда-то, вырвавшись ранее случайно в открытую калитку... Кума, как заботливая мать, отрыгнула уже большим щенкам в изобилии где-то добытое жратво, чем, вероятно, и спасла себя — отвалилась; щенки же, все трое, погибли и Заграй IX тоже. Ветврач определил отравление стрихнином.
Жил я в казарме, в лесу... Леса кругом различных наименований: Казенный, Удельный; много лесов местного значения. Глуш страшенная.
В феврале на солнце так пригревало, что с крыш свисали длинные сосули: капали или слетали, подтаяв, с дребезгом.
Из окон казармы были видны калитка, ворота и примыкающий к ним амбар, видна часть большой поляны; другая часть поляны, за углом амбара, не видна.
Перед воротами и домом на пригреве спускающегося уже к закату солнца прямо на снегу лежали и нежились в «богатых шубах» три великолепно выкормленных, выхоленных, почти негодовавших выжлеца и две выжловки. Среди них небольшой, широкий, беззаветно злобный к зверю четырехосенний Заграй II.
Вот беспокойная проныра Журьба замаячила по полянке — занялась неподходящим делом — замышковала. Она то грациозно прыгала, откапывая мышь из-под снега, то, подбросив пойманную, ловила ее и потом снова отправлялась на поиски... Скука смертельная...
Хотел было окликнуть Кутузова, моего рьяного сподвижника по охотам: поговорить с ним про глухарей, тетеревей, которых уйма в тех местах, но шум заставил меня обернуться к окну. Ощетинившись, молнией из-за угла сарая вылетела Журьба, а за ней следом, почти настигая ее,— волк.
Волк — холостяк, здоровый, сильный, отогнанный, очевидно, от выводка и неопытный еще в жизни, притом голодный, а опыт жизни никому не дается сразу... Образовалась «каша»: Заграй серьгой повис на глотке волка, три молодых выжлеца накрыли волчка, озлобившаяся Журьба впилась ему в зад, другая выж¬ловка драла его тоже.
Я бомбой, запихивая в стволы патроны, вылетел вон... Кутузов оказался практичнее меня — он вертелся уже в самой свалка с кинжалом, который и погрузил в волка.
Собаки обазартились донельзя. Заграю пришлось разжимать зубы. Кое-как отбили собак, втащили волка в сени. Дело этим и кончилось...
Было у меня двое молодых, уже негодовавших, собак от известного араповского краснонога Звонилы и один еще не погодовавший щенок от Водилы Гринвальда. Старых собак при мне не было, кроме Водилы — внука вывозного из Франции Вольтера. Остальные крови в нем были русские. Достался мне Водило после смерти двух его хозяев уже очень осенйстым, с поврежденной левой передней ногой на кабаньей охоте. Красногон он был выдающийся. Брал я от него щенят, и все потомки его были зверогоны, но, странно, все были скотинники. Старый же Водило скотинником не был.
Выбегает однажды мордвин (тогда я жил среди мордвы в Пензенской губернии) и кричит, что только что видел, не более как версты за полторы, «капканного волка», идущего по направлению к Городищенским дачам.
Конь был оседлан, я подсвистнул собак и гайда... Живей, поратей всех была выжловка Тревога. Старый Водило плелся сзади. Волк, которого я увидел далеко, очевидно, совсем стомился и едва брел, волоча тяжелый капкан. Собаки пока еще волка не заметили, так что я имел время задержаться из-за старого, надежного Водилы, который также подбыл, и я логом, идущим параллельно ходу волка, подобрался поближе шагов на сто-сто пятьдесят, когда увидели зверя и собаки.
Скорее всех, как добрая борзая, приспела к волку Тревога и влепилась ему в заднюю ногу и так сильно повернула волка, что тот стал наоборот, но сама Тревога исколечилась, отлетев на добрую сажень вбок и покатилась с неистовым плачем.
Подоспевшие молодые выжлецы, обескураженные «пассажем» с выжловкой, не брали волка, оплясывали его.
Опасный момент такая нерешительность — оплясывание для молодых собак... Не дожидаясь развалины Водилы, я решил выстрелить в волка по брюху, чтобы не убить зверя сразу, а лишь свалить, и тогда только выжлецы да и приковылявший наконец Водило прикончили его.
Все мои старания заставить Тревогу принять участие в травле не привели ни к чему: она визжала, хромала, на боку у нее вздулась шишка с багровым подтеком.
В момент, когда так лихо Тревога хватала волка, ее ударило капканом по ногам и сбоку. Я не мог даже заставить ее подойти к волку.
Ее потомство — в том числе Заграй V от Сигнала Можарова, а также и от Набата Панчулидзева — выдающиеся зверогоны.
Тревогу II хорошо знают многие орловские охотники: М. Э. Будковский, Е. В. Мартынов*, которому она и продана мною. Охотился с Тревогой и А. Я. Прокопенко — пусть он скажет о ней свое беспристрастное слово. Тревога волка не гнала, и когда, бывало, ее достойные сыновья и дочери гонят, а Тревога сидит около меня,— я знал, что гон идет по волку.
Как производится охота по волкам с гончими, всякий найдет в любом описании этого способа старыми охотниками, как-то: Губиным, Мачевариановым, Глебовым, Сабанеевым, Дриянским и другими, но о кое-каких мелочах приходится здесь упомянуть. Больших охот, с большим количеством собак и самих охотников, я не касаюсь — везде подразумеваю ружейную охоту с гончими до пяти-шести смычков.
Бывают собаки, гоняющие волка, но не предпочитающие этого зверя, и с такими гончими охота на волков полна случайностей...
Гончие-зверогоны, предпочитающие волка другому зверю, также бывают разные: бывают зверогоны, предпочитающие волка, у которых и злобы достаточно, но они не лишены соображения и понимают, что им не одолеть волка по своему слабосилию.
Бывают собаки бесшабашной отваги и злобы, не берущие в соображение свои силы, которых в действительности у них мало.
Бывают зверогоны, надеющиеся на свои силы, берущие волка мертво, богатыри по росту, могучей сложки да еще втравленные, тренированные, опытные и дружные. Последние недалеки уже от идеала гончей по крупному зверю. Но еще ближе к такому идеалу, а следовательно, и к успешности охоты по волкам — зверогоны, не гоняющие вовсе по зайцу и работающие только волка и лисицу.
Мой Добыч II, попавший к М. Э. Будковскому (о котором упоминает Л. В. Деконнор в журнале «УкраТнський мисливець та рибалка», № 1 за 1928 год) уже в преклонном возрасте (в 1916 году), отличался скоростью к волку, и когда дело было близко к развязке, он старался сократить свой путь прямиком, и случалось, что в своей бешеной, безумной злобе не раз расшибался о пни и сплечивался (вывихивал плечи).
Если охотник сидит не на вертком киргизе, башкире, уральском казачьем коне-одноповодке, а на «шкапе», если у него и зверогоны широки только в пузе от овсянки-пустоварки, то нечего ругать ни английской, ни русской, ни какой другой породы собак! Но и с такими средствами можно все же бить волков — прибылых, изредка переярков, случайно и матёрого, если он по первому шуму нарвется на надежного стрелка.
За прорвавшимся материком (при таких условиях) бесполезно скакать. За материком пролезет и старая волчица. В этих случаях надо всемерно стараться сбить со следа гончих и снова насадить их на логова.
Всякое бывает с человеком. В своей охотничьей жизни, при частых служебных переводах из края в край, при многих житейских неудачах мне приходилось сидеть не на коне, а на каком-то недоразумении конской породы. Бывали времена, когда я обезлошадничивал и обессобачивал, но при малейшей перемене к лучшему я снова восстанавливал своих собак, приобретал коня; самых почетных четвероногих друзей держал в комнатах.
Однажды двух выжлецов по нужде пришлось поместить в конюшню. Выжлецы были уже погодовавшие, из коих один был предобродушнейшего характера — Натекай, другой презлющий и скандалист — Ругай. Конь по кличке Милый ничего милого не имел — был лукав и зол.
Казалось, что ничего доброго не могло выйти из сожительства озлобленного людьми коня и двух выжлецов, но ничего нельзя было поделать: и так в городе меня гнали с квартиры на квартиру...
Cтатьи
|
Автор: В.В. Кульбицкий |
Просмотров: 974
Комментарии
|
|